

Volume: 4, Issue: 1
1/04/2012


1/04/2012
Введение
Игровая компьютерная аддикция, понимаемая нами как вид девиантного поведения с формированием склонности к уходу от реальности через изменение своего психического состояния посредством постоянной фиксации внимания на интерактивном взаимодействии с игровыми компьютерными программами или с другими пользователями с помощью этих программ, является сегодня одной из наиболее актуальных проблем современной педагогики и психологии во многих странах мира.
Известно, что причины формирования игровой компьютерной аддикции имеют психологический и социальный характер. Первые определяются психологическими и характерологическими особенностями подростков (нервно-психическая неустойчивость; ярко выраженные акцентуации характера; поведенческие реакции) и особенностями нарушения социализации. Вторые представлены воздействием социальной среды и условиями, препятствующими реализации широкого круга форм поведения. Для четкого понимания механизмов формирования и развития игровой компьютерной аддикции, необходимо проводить исследования данных особенностей. Это позволит не только понять причины ее формирования, но и разработать эффективные средства ее профилактики и коррекции, определить какие факторы при прочих равных условиях способствуют развитию аддиктивных или адекватных типов взаимодействия с компьютерной игрой.
Обзор схожих исследований
Анализ схожих исследований в мировой психолого-педагогической практике позволил выделить две группы особенностей подростков.
К первой группе относятся работы, изучающие личностные особенности подростка. Ученые отмечают специфичные особенности системы ценностных ориентаций. Так, игроки в компьютерные и азартные игры имеют менее развитую ценностную сферу [3; 7]. У компьютерных аддиктов выделяется более высокий процент аффективных личностей с преобладанием депрессии и обсессивно-компульсивных расстройств [8; 17]. У подростков, страдающих зависимостью от компьютерных игр, наблюдается более частая депрессия с повышенным риском суицида [2; 6]. Изучая личностные особенности с помощью опросника Айзека, Я. Амичай-Гамбургер обнаружил среди компьютерных аддиктов преобладание интровертивных личностей; им же было выявлено, что для аддиктов характерно ощущение одиночества, которое они стараются подавить общением в Интернет [1]. С. Каплан выявил следующие особенности личности компьютерных аддиктов: депрессию, одиночество, скромность и самолюбие [4].
В последнее время такие работы появляются и в России. Например, изучая личность Интернет-аддиктов, Ф.А. Саглам отмечает сильное расхождение между реальным и идеальным «Я» подростков [19], М.В. Бредихина – высокие показатели тревожности и мотивационной агрессии [12]. Наиболее интересным для нас представляется исследование, проведенное группой А. Егорова, с целью определения особенностей личности подростков с Интернет-аддикцией [13]. Они выявили преобладание в группе аддиктов лиц с шизоидными, истероидными и лабильными типами акцентуаций.
Ко второй группе можно отнести работы, рассматривающие социальные особенности подростков, склонных к игровой компьютерной аддикции. В ранних исследованиях говорилось о склонности к социальной дезадаптации и сниженной учебной мотивации. Игровым аддиктам свойственны социальная изоляция [4; 5] и неадекватная самоидентификация [9]. А. Егоров отмечает, что аддикты более робки и замкнуты в общении, используют конформный тип социального поведения [13]. А.Ф. Саглам выявила у Интернет-аддиктов низкий уровень развития коммуникативных и организаторских умений [19], А.А. Максимов – низкий уровень развития игровой деятельности компьютерных аддиктов [16].
Обобщив результаты разных исследований, Н.В. Чудова выделяет следующие признаки компьютерного аддикта: сложности в принятии своего физического «Я» (своего тела); сложности в непосредственном общении (замкнутость); склонность к интеллектуализации; чувство одиночества и недостатка взаимопонимания (возможно, связанное со сложностями в общении с противоположным полом); низкая агрессивность; эмоциональная напряженность и некоторая склонность к негативизму; наличие хотя бы одной фрустрированной потребности; независимость выступает как особая ценность; недифференцированные, завышенные или даже нереалистичные представления об идеальном «Я»; заниженная самооценка; склонность к избеганию проблем и ответственности [20].
Задачи исследования
Для выявления личностных и социальных особенностей подростков, склонных к игровой компьютерной аддикции, нами было проведено эмпирическое исследование, задачами которого являлись: установление зависимости типа акцентуаций характера и социально дезадаптивных склонностей от типа взаимодействия подростка с компьютерной игрой; выявление типов акцентуаций характера, присущих подросткам, склонным к построению аддиктивных типов взаимодействия с компьютерными играми; установление зависимости выбираемых типов взаимодействия с компьютерными играми от характера протекания процесса социализации подростка; установление взаимосвязи уровня тревожности и выбираемых типов взаимодействия с компьютерными играми; выявление и обоснование социально-педагогических условий, при которых компьютерная игра может выступать фасилитатором процесса социализации подростков; выявление и обоснование социально-педагогических условий, при которых компьютерная игра может являться фактором, способствующим формированию и развитию игровой компьютерной аддикции.
Методики исследования и респонденты
Объектами исследования стали сто подростков разного пола в возрасте от 10 до16 лет. Для выделения подростков группы риска, склонных к игровой компьютерной аддикции, мы использовали опросник «Определение предрасположенности к компьютерной аддикции», разработанный К. Янгом [10]; методику изучения склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) [17]. Для выявления личностных и социальных особенностей подростков обоих группы нами были использованы следующие диагностические инструменты: патохарактерологический опросник [15], позволяющий определить типы акцентуаций характера и степень риска социальной дезадаптации; методика изучения социализированности личности учащихся [18]; опросник определения агрессии и враждебности Басса – Дарки [14]; методика «Уровень субъективного контроля» [11].
Результаты
На первом этапе по результатам опросника определения предрасположенности к игровой компьютерной аддикции и методики изучения склонности к отклоняющемуся поведению (шкала «склонность к аддиктивному поведению») испытуемые были поделены на две группы: группу подростков без склонности к игровой компьютерной аддикции и группу риска. Основанием для отнесения подростков к группе риска было превышение нормы баллов (50) по обозначенной шкале методики СОП и превышение нормы баллов (50) по методике изучения склонности к игровой компьютерной аддикции.
Результаты по опроснику определения склонности к игровой компьютерной аддикции показали следующее распределение испытуемых: 59% выстраивают адекватные типы взаимодействия с ней (менее 50 баллов); 37% – это подростки, часто имеющие проблемы из-за чрезмерной игры, склонные к выстраиванию аддиктивных типов взаимодействия с компьютерной игрой (от 50 до 79 баллов); 4% имеют существенные проблемы из-за компьютерной игры в силу выстраивания преимущественно аддиктивных типов взаимодействия с ней (свыше 80 баллов).
По шкале «склонность к аддиктивному поведению» методики СОП соотношение испытуемых стало следующим: у 3% была выявлена психологическая потребность в аддиктивных состояниях (более 70 баллов); 29% испытуемых предрасположены к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, склонны к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем (от 50 до 70 баллов); у 68% испытуемых не было отмечено ярко выраженных тенденций, и был зафиксирован хороший социальный контроль поведенческих реакций (менее 50 баллов).
По результатам проведенного исследования выявилось две группы испытуемых. Группу А составили подростки без риска формирования аддиктивного поведения и не склонные к игровой компьютерной аддикции, выстраивавшие адекватные модели взаимодействия с компьютерной игрой. Данную группу составили 59% от общего числа испытуемых. В группу Б вошли подростки, испытывавшие риск формирования аддиктивного поведения и склонные к игровой компьютерной аддикции, к выстраиванию аддиктивных моделей взаимодействия с компьютерной игрой. Группу составили 41% от общего числа испытуемых.
На втором этапе в каждой группе был использован патохарактерологический опросник (ПДО). В ходе использования данной методики были получены следующие результаты.
В группе Б преобладают подростки с шизоидным (29,27%), истероидным (21,95%), неустойчивым (19,51%) типом акцентуаций. Реже встречаются эпилептоидный (14,63%) и гипертимный (9,76%). В единичных случаях – астено-невротический и психастенический (по 2,44%).
Среди подростков группы А преобладают гипертимный (25,42%), психастенический (20,34%), циклоидный (16,95%) и сенситивный (13,56%). Типы акцентуаций, преобладающие в группе Б, в группе А встречаются гораздо реже: истероидный (10,17%), неустойчивый (6,78%), шизоидный (5,08%), эпилептоидный (1,69%). Отметим, что нами представлены доминирующие типы акцентуаций или те, выделение которых необходимо для сравнения групп респондентов. Помимо этого, обработка данных, полученных в ходе исследования, позволила диагностировать уровень социальной дезадаптации. В группе Б преобладали подростки с наличием уровня социальной дезадаптации (43,9%) и высоким уровнем ее проявления (36,5%). Подобный риск отсутствует у 19,5% испытуемых. В группе А риск социальной дезадаптации наблюдается у 33,9% респондентов, высокий уровень – у 11,9%; отсутствует у 54,2% ( см.: рисунок 1).
Рисунок 1. Соотношение подростков с доминирующими типами акцентуаций и различным уровнем социальной дезадаптации в группе А и группе Б
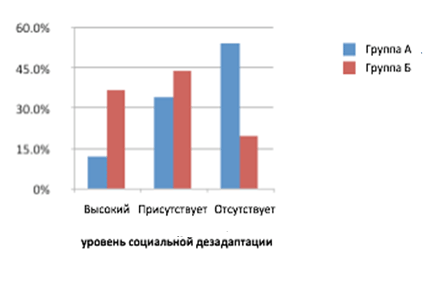
Показательным для определения риска дальнейшего развития аддиктивного поведения и подтверждения достоверности в выделении группы риска являются повышенные показатели по шкале «склонность к наркотизации и алкоголизации» у подростков группы Б. По данной шкале процентное соотношение испытуемых оказалось следующим: у 3,38% подростков группы А и 19,51% подростков группы Б наблюдается выраженный риск алкоголизации и наркомании; склонность к алкоголизации и наркомании выражена у 28,81% подростков группы А и 43,9% подростков группы Б; у 67,79% респондентов группы А и 36,58% группы Б не проявляется склонность к алкоголизации и наркомании.
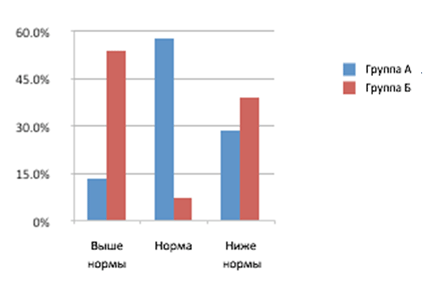
Опросник Басса-Дарки показал повышенные индексы агрессивности и враждебности в группе Б в сравнении с группой А (рисунок 2).
При помощи методики УСК было выявлено преобладание экстернального локуса контроля жизненных ситуаций у подростков группы Б (78,04%). Для сравнения отметим, что в группе А данным локусом контроля обладают 20,34% подростков.
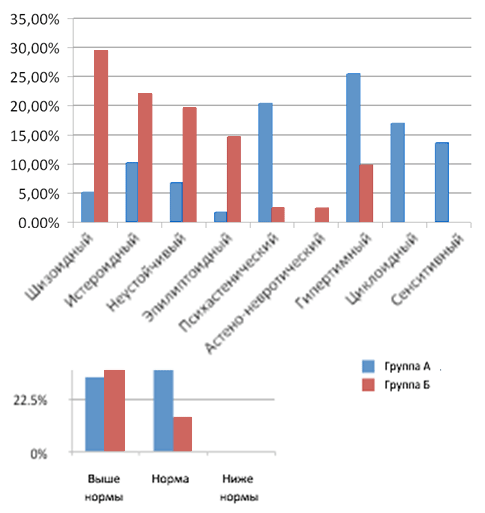
Рисунок 2. Уровень агрессивности и враждебности подростков групп А и Б
На третьем этапе респондентам была предложена методика изучения уровня социализированности личности учащихся.
Для подтверждения гипотезы о том, что компьютерные игры могут оказывать благоприятное воздействие на уровень социализированности подростков и выступать фасилитатором процесса социализации, в исследование была введена третья группа респондентов (группа В), равная по количественному и половозрастному составу группе А. В нее на основе опроса и бесед вошли подростки, не играющие в компьютерные игры.
В таблице представлены результаты данного исследования в виде общего среднего от значений респондентов каждой группы по каждому из четырех критериев социализированности.
| Критерии социализированности | Группа A |
Группа Б |
Группа В |
Адаптированность |
3,4 |
1,7 |
3,1 |
Автономность |
3,2 |
2,1 |
2,9 |
Активность |
3,8 |
1,9 |
3,3 |
Нравственная воспитанность |
2,6 |
2,2 |
2,8 |
Как видно из таблицы, по всем критериям, кроме нравственной воспитанности, наблюдается существенное отставание респондентов группы В от группы А. Общие средние показатели уровня социализированности в группе A, как мы видим, не превышают 3, что может свидетельствовать о невысоком уровне социализации и о проблемах, испытываемых подростками в процессе социальной адаптации и автономизации. При формировании аддиктивных моделей взаимодействия с компьютерными играми у подростков, в первую очередь, нарушаются процессы социальной адаптации, изменяется сфера общения, формируется ощущение одиночества и искажается сфера самооценки, о чем свидетельствует низкий показатель адаптивности (1,7) и автономности (2,1) у подростков группы Б. Необходимо также отметить меньшие показатели социализированности практически по всем критериям в группе В, что подтверждает положение о том, что компьютерные игры могут благоприятно влиять на социализацию при ряде условий.
Сравнивая полученные результаты, можно сделать ряд выводов. По итогам методики ПДО наблюдается явное преобладание подростков с шизоидными акцентуациями характера среди детей группы риска. Объясняется это тем, что основной отличительной особенностью шизоидов является стремление к абстрагированию от реальности. Наряду с трудностями в процессе социального развития (именно у этих подростков по результатам методики изучения уровня социализированности наименьшие показатели по адаптированности и активности) такие акцентуации могут выступать как фактор риска формирования игровой компьютерной аддикции. Большой процент истероидов, которым свойственно стремление «быть на виду», «в центре внимания», может, на первый взгляд, показаться нетипичным, так как для игровых компьютерных аддиктов характерна замкнутость и малообщительность, стремление к уединению и одиночеству. Однако, сопоставляя данные ПДО с методикой изучения социализированности, где меньшие результаты получают подростки с таким типом акцентуации, можно предположить, что в этом случае процесс формирования игровой компьютерной аддикции идет по компенсаторному механизму: в отсутствии возможности реализовать свою потребность во внимании в реальном социуме такие подростки пытаются найти пути ее реализации в виртуальном мире.
Интересен также и тот факт, что среди всех подростков группы Б именно истероиды и шизоиды больше других отдают предпочтение онлайн-играм. Неустойчивый тип акцентуации характеризуется относительным безволием. Именно такие подростки и составляют основную массу группы с экстернальным локусом контроля (по результатам методики УСК), они всегда входят в группу риска возникновения различных аддикций. Процесс формирования игровой компьютерной аддикции у них основан на реакциях группирования и увлечения. Для эпилептоидного типа с его дисфориями компьютерная игра становится полем для реализации аффективных взрывов. Под давлением социальной среды дисфории эпилептоидов вытесняются в мир компьютерных игр. Интересно, что подростки с таким типом акцентуации чаще выбирают игры с высоким уровнем жестокости и насилия. У них же завышен уровень агрессивности и враждебности.
Во второй группе преобладают гипертимные и психастенические акцентуации характера. Подростки гипертимного типа имеют высокие показатели по социальной активности и автономности. Большой процент психастеников объясняется характерным для них отсутствием каких-либо склонностей к девиантному поведению. Большая часть этих подростков предпочитает сложные интеллектуальные игры, процент играющих онлайн среди них ничтожно мал. Наиболее близко к грани группы риска находятся подростки с циклоидными акцентуациями. Они предпочитают те же игры, что и представители группы A, у них более низкие показатели социализированности в сравнении с другими подростками группы В, но в силу цикличности своих фаз настроения они играют в игры не продолжительно, часто меняют игру, делают большие перерывы. Они не выстраивают аддиктивных типов взаимодействия с компьютерной игрой.
Выводы
В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь один из аспектов проблемы игровой компьютерной аддикции, очень важным на данный момент является разработка новых эффективных средств ее профилактики в различных сферах жизнедеятельности. Изучение особенностей игроков и характера их взаимодействия с компьютерными играми представляется нам перспективным в плане индивидуализации профилактических воздействий.
Использованная литература
1 Друзин Владимир Николаевич – к. пед. наук, старший преподаватель кафедры педагогических технологий, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.
Home | Copyright © 2026, Russian-American Education Forum